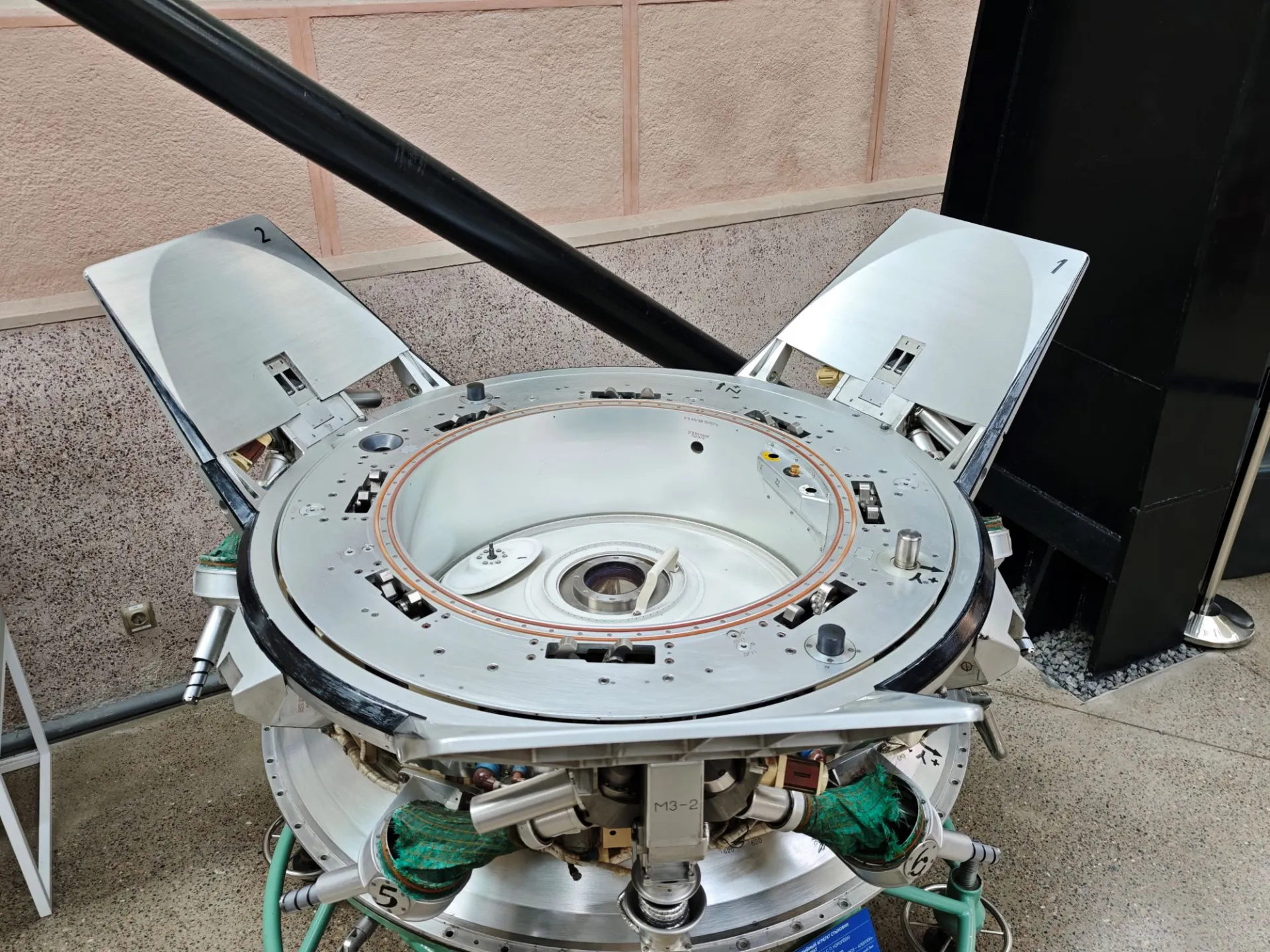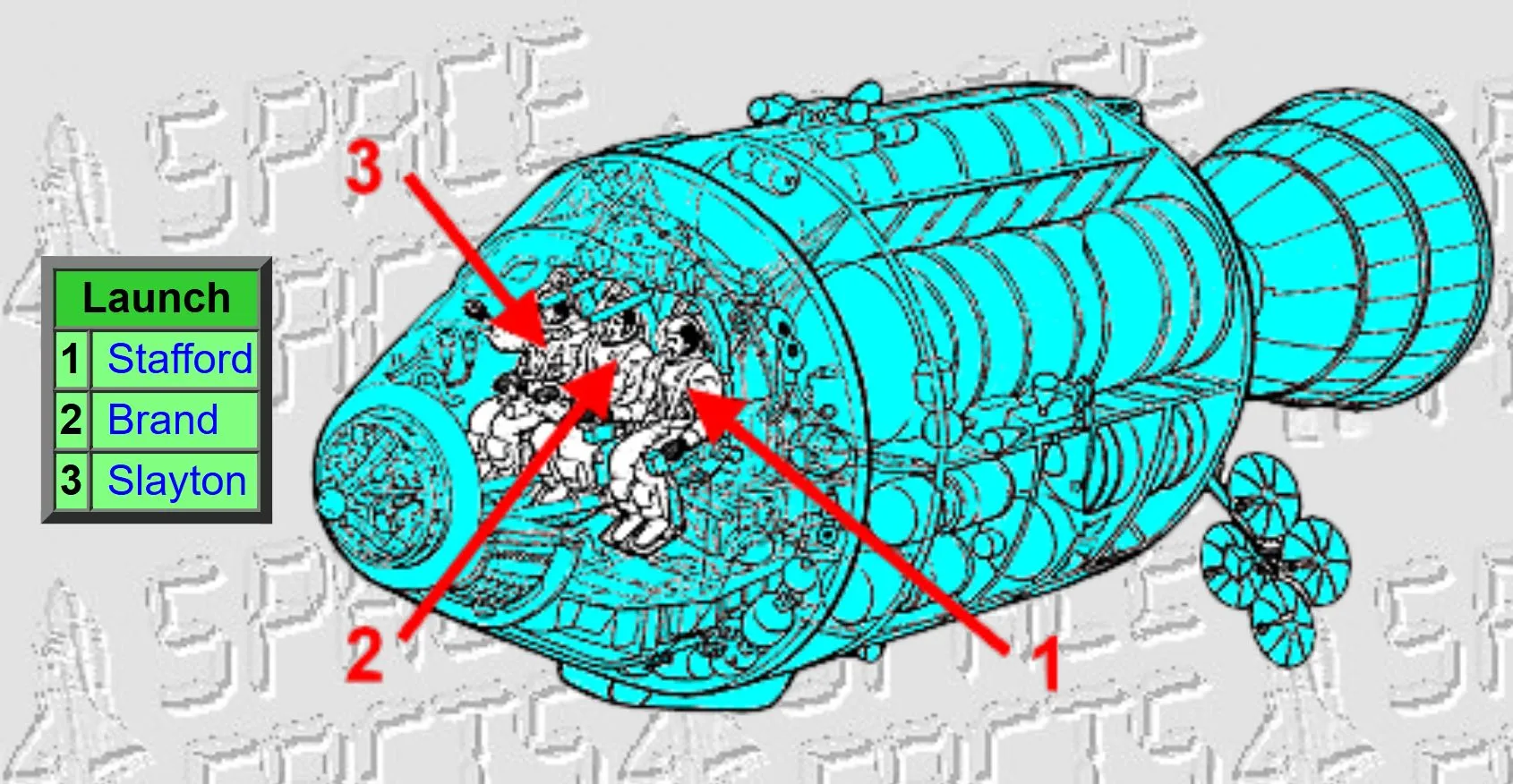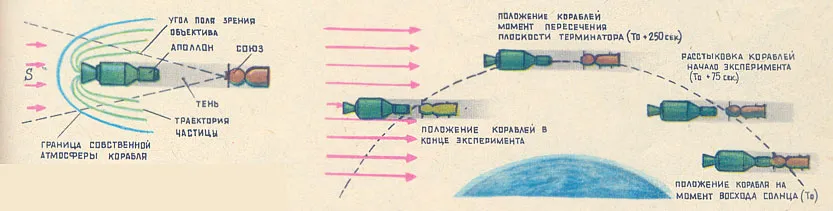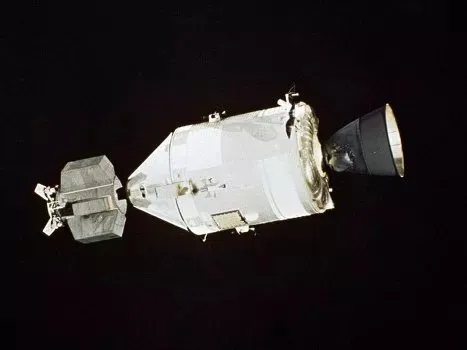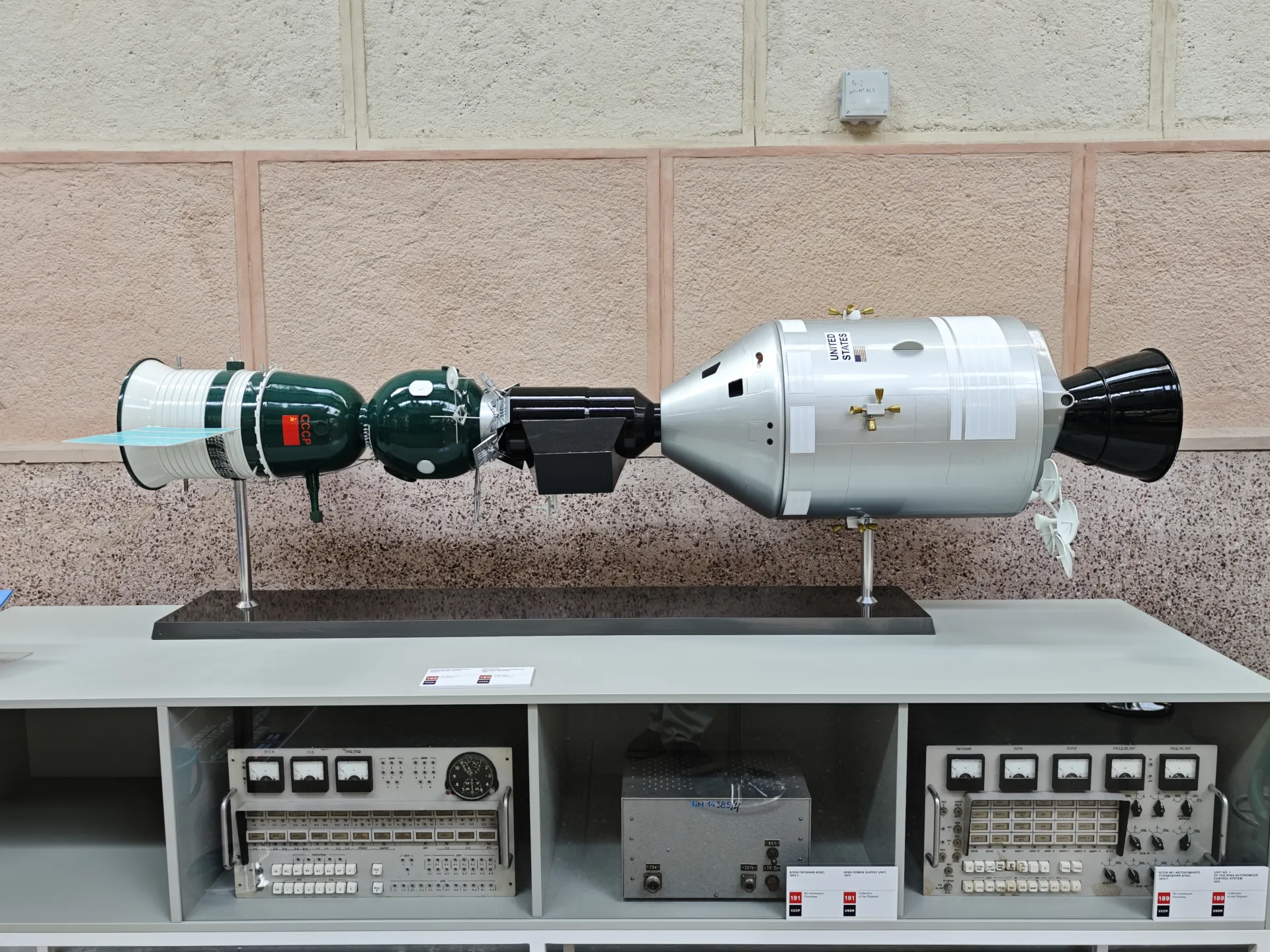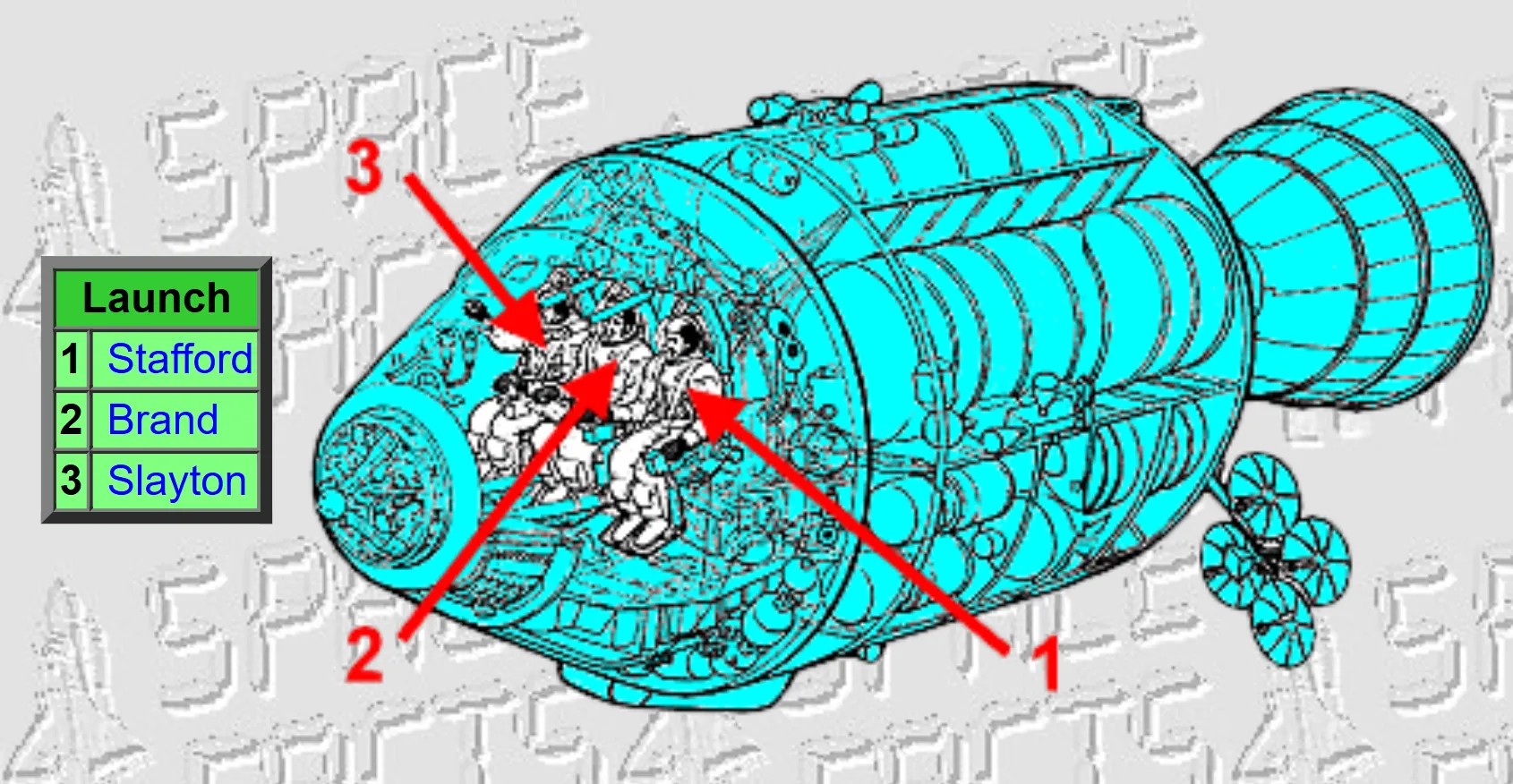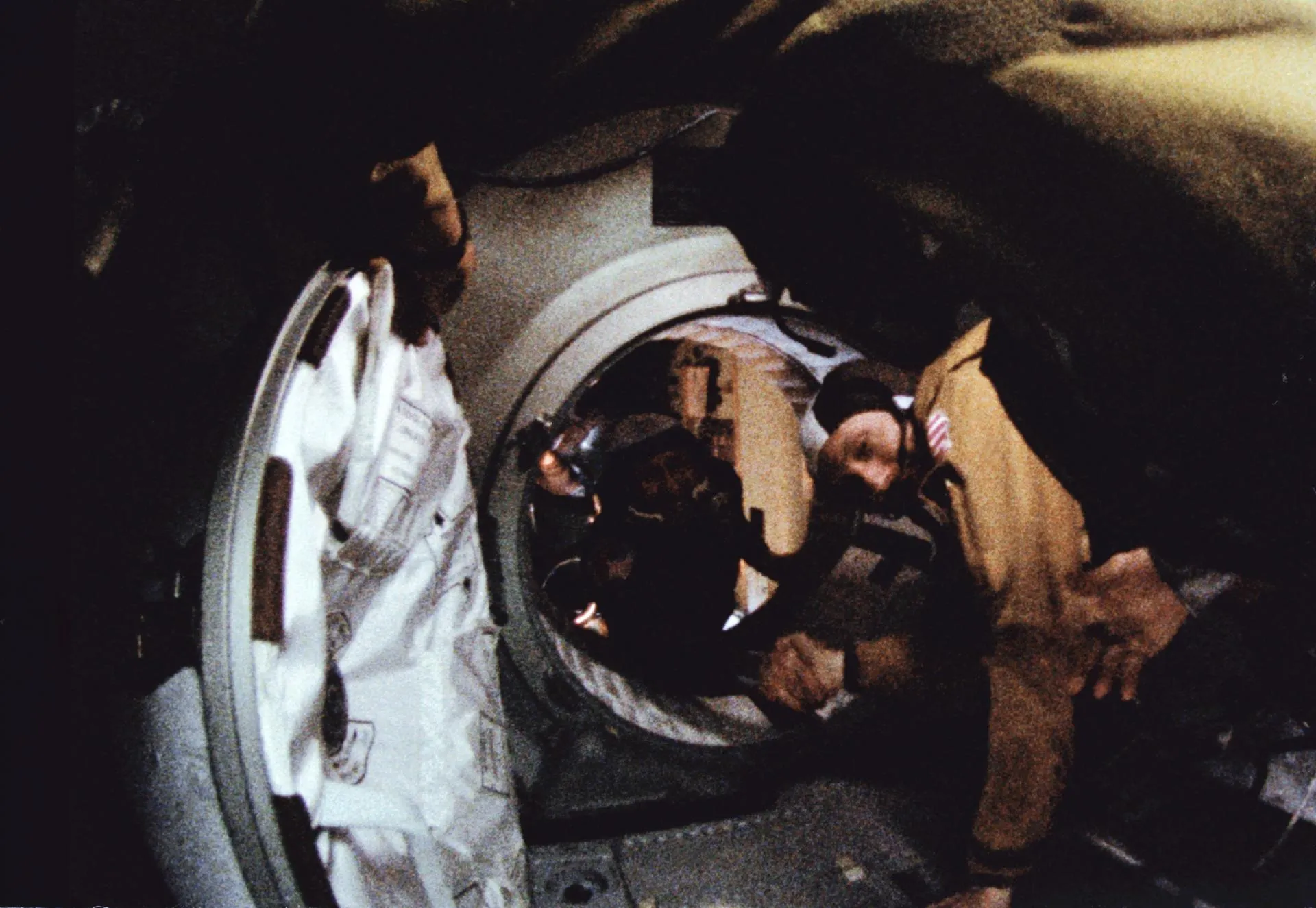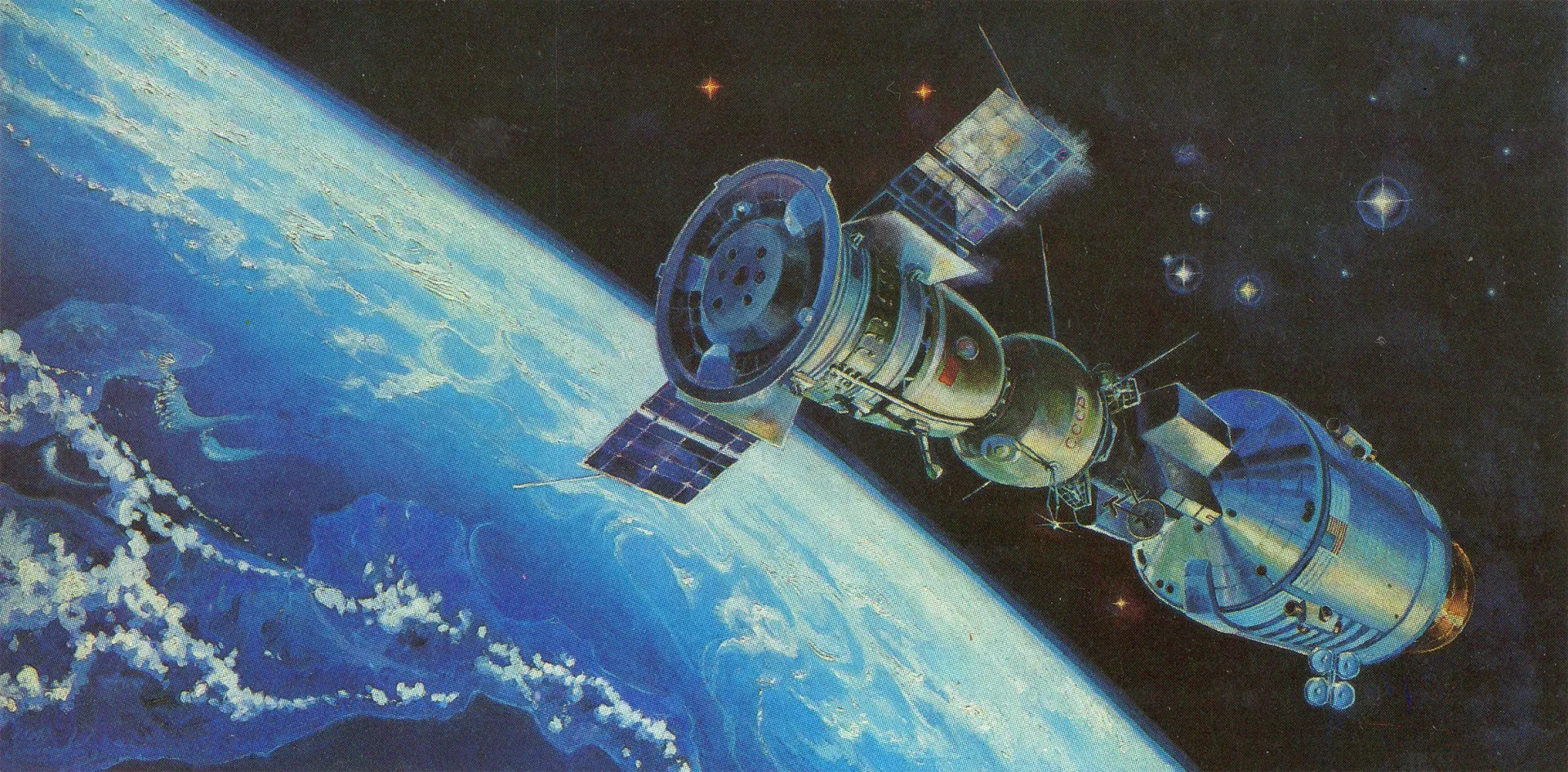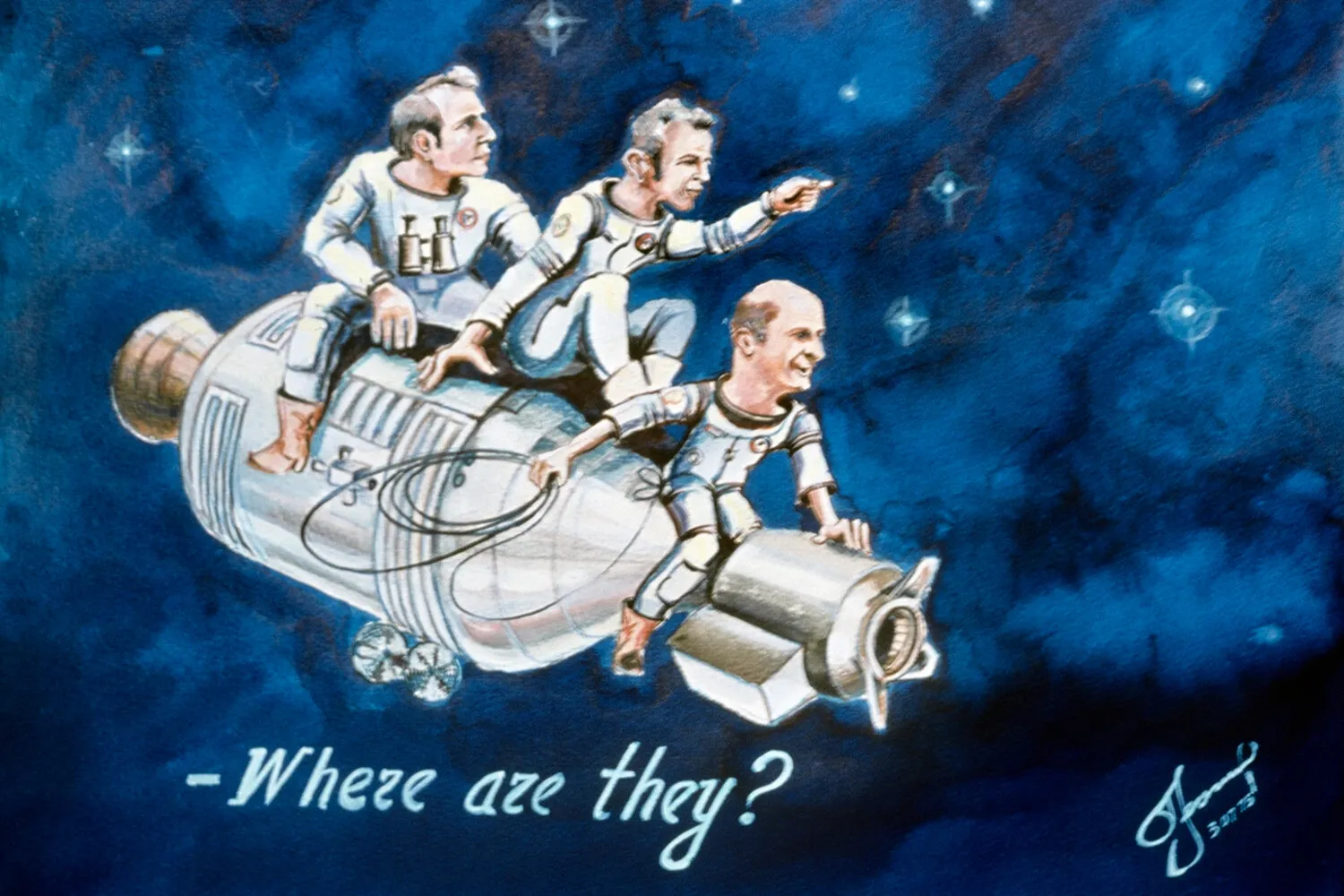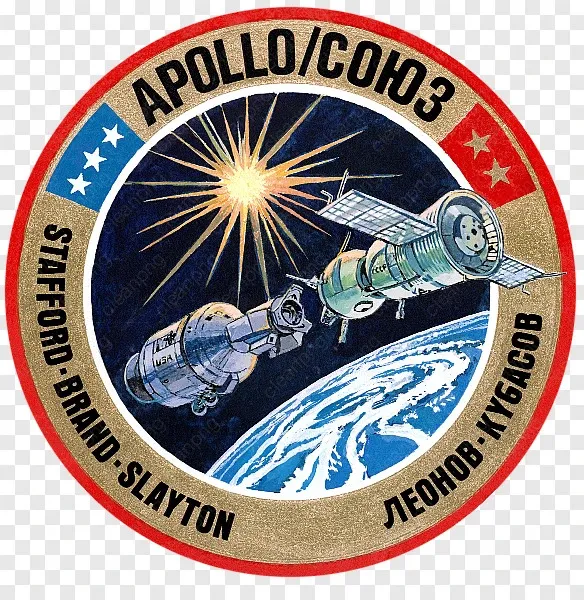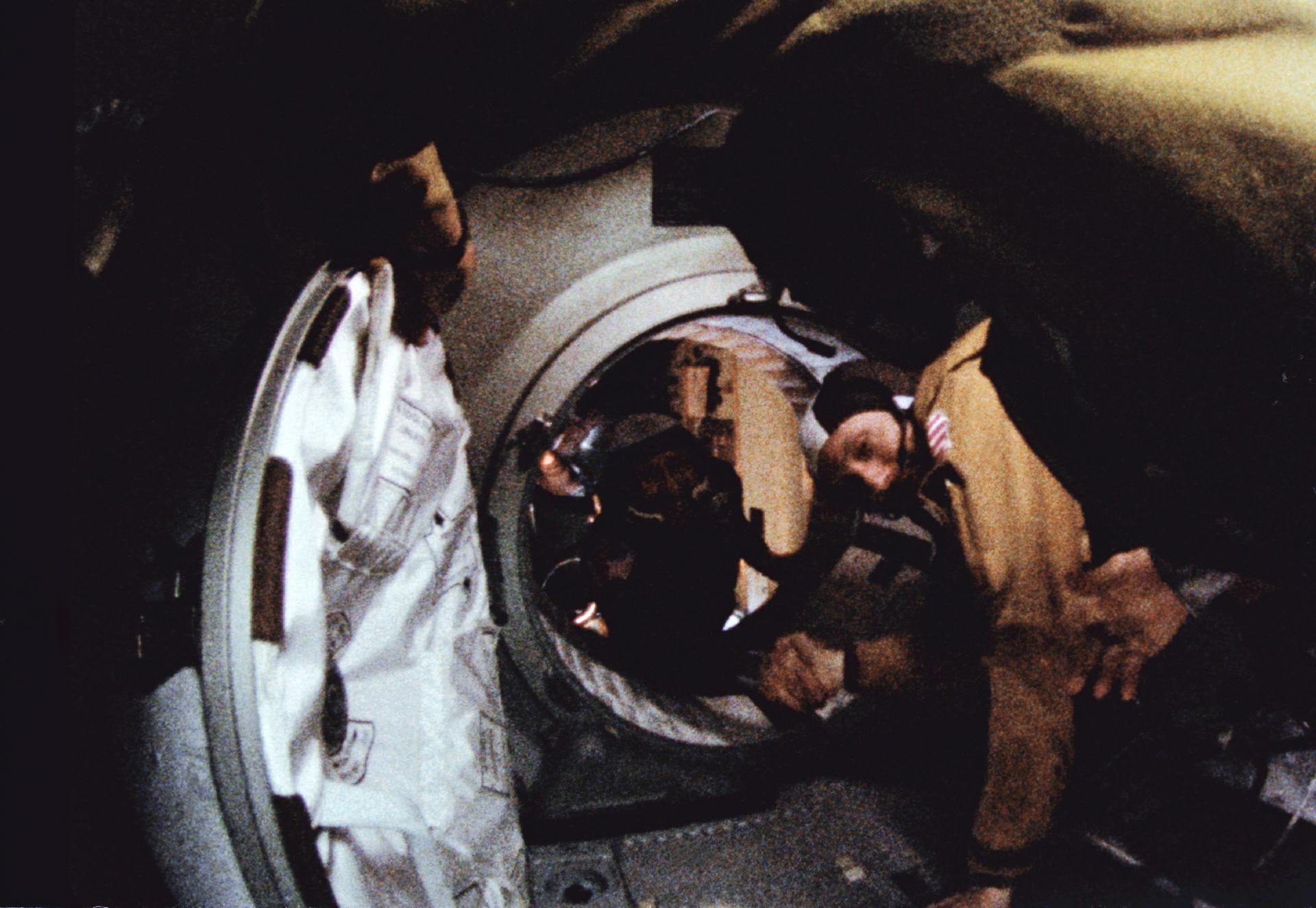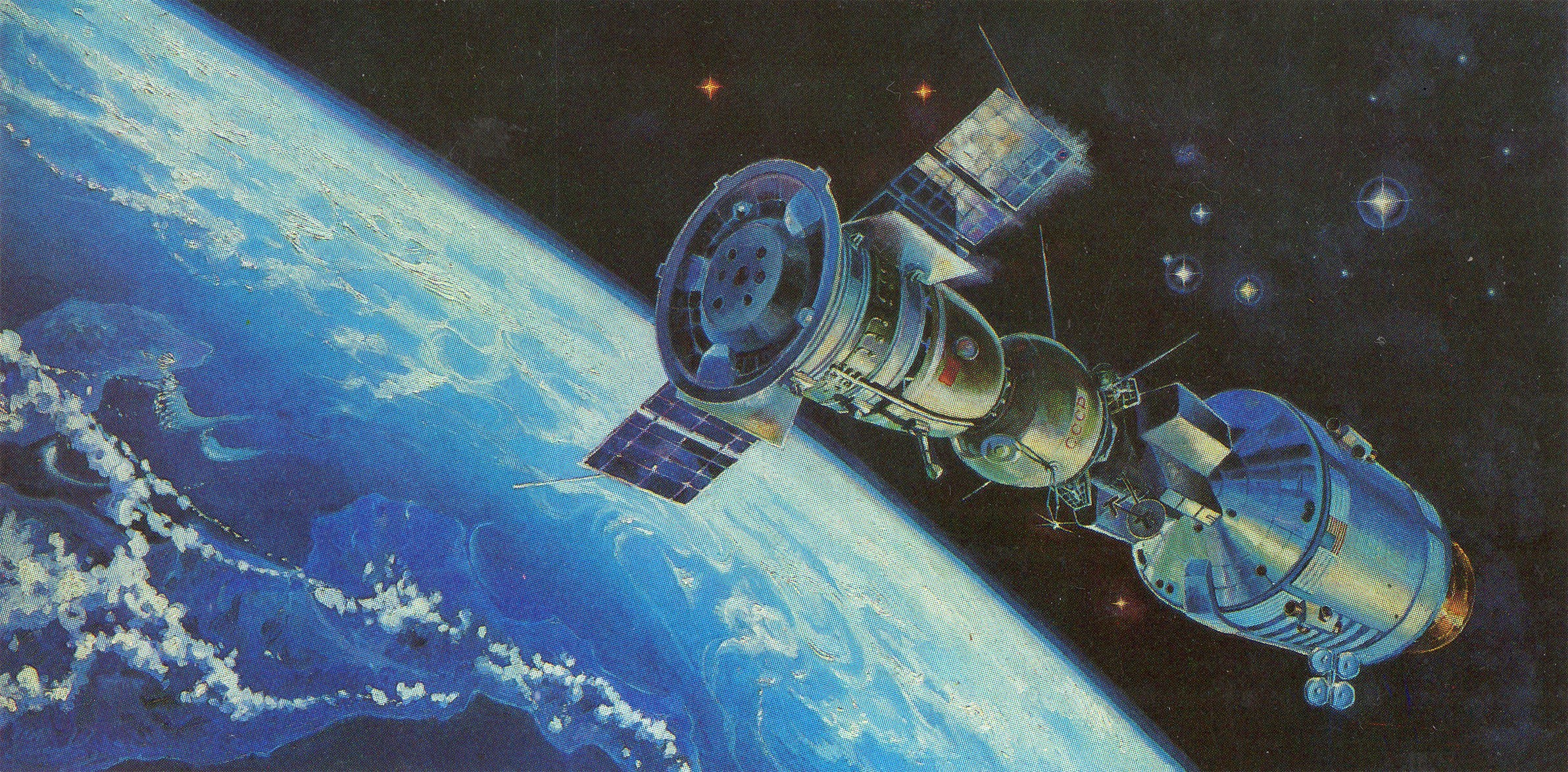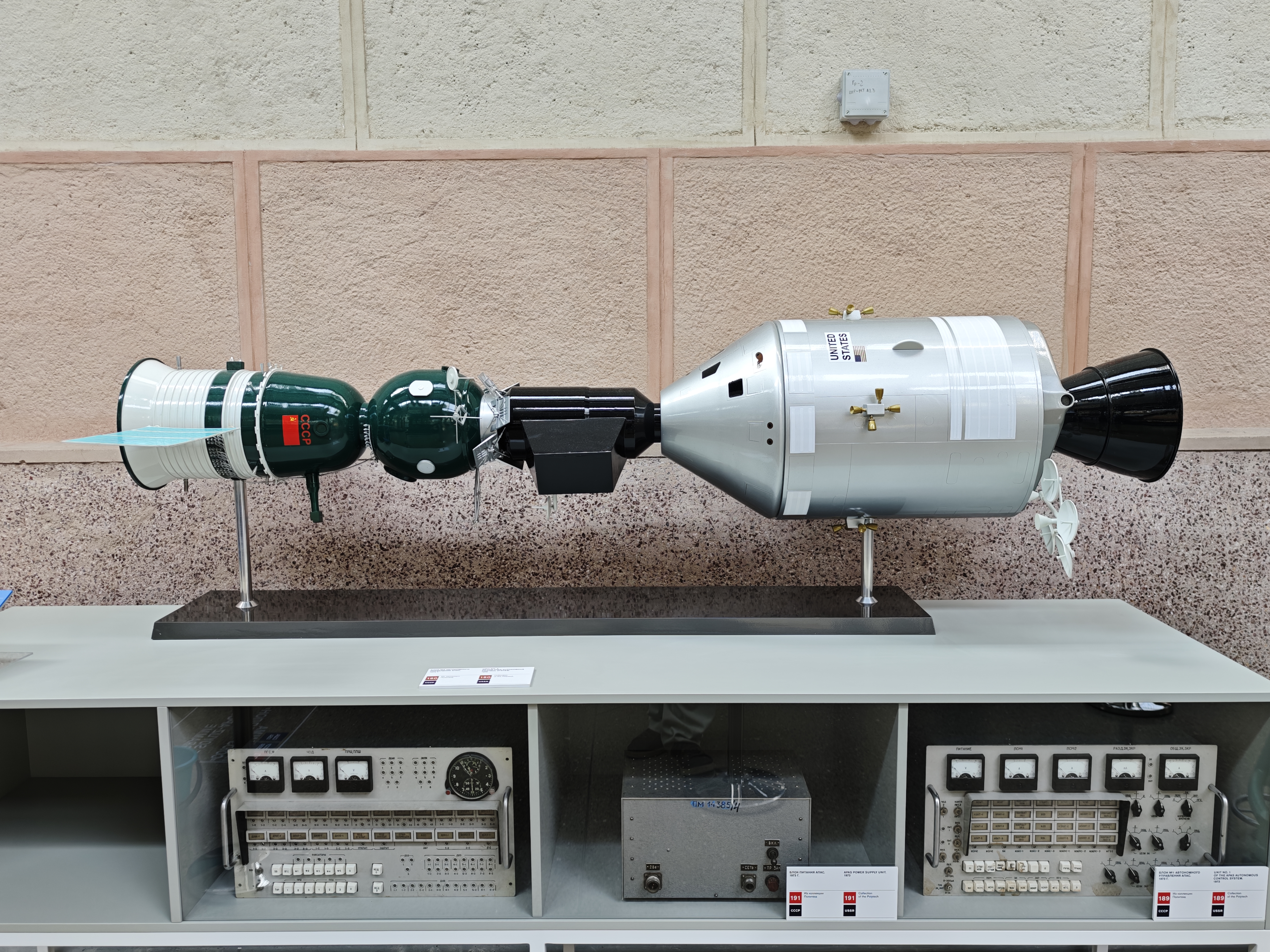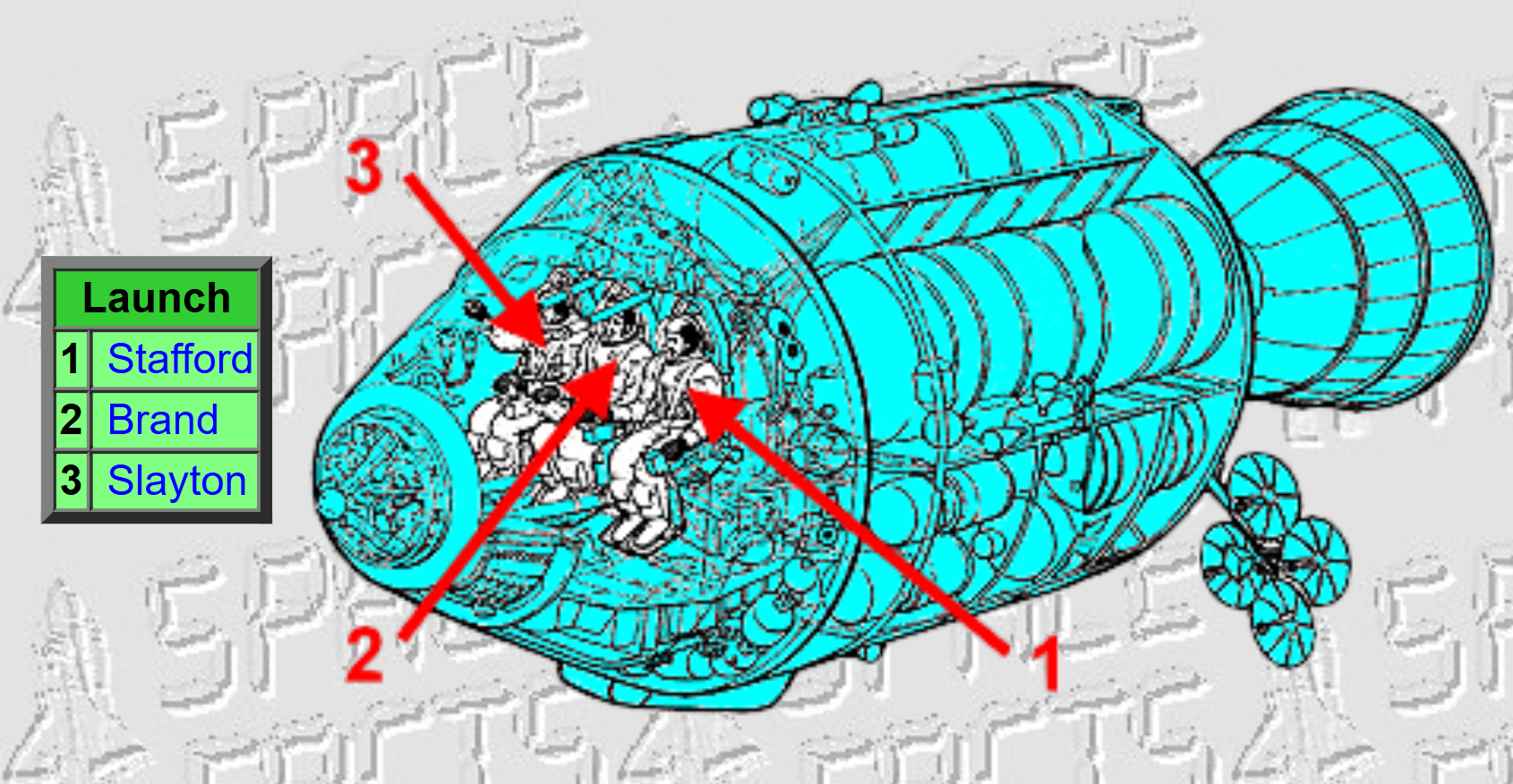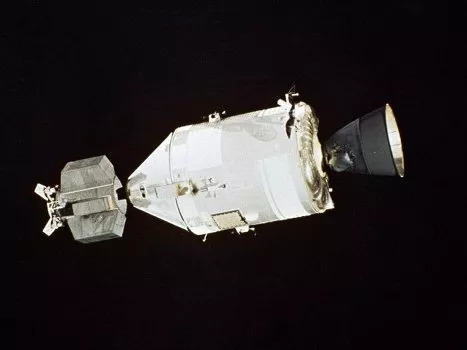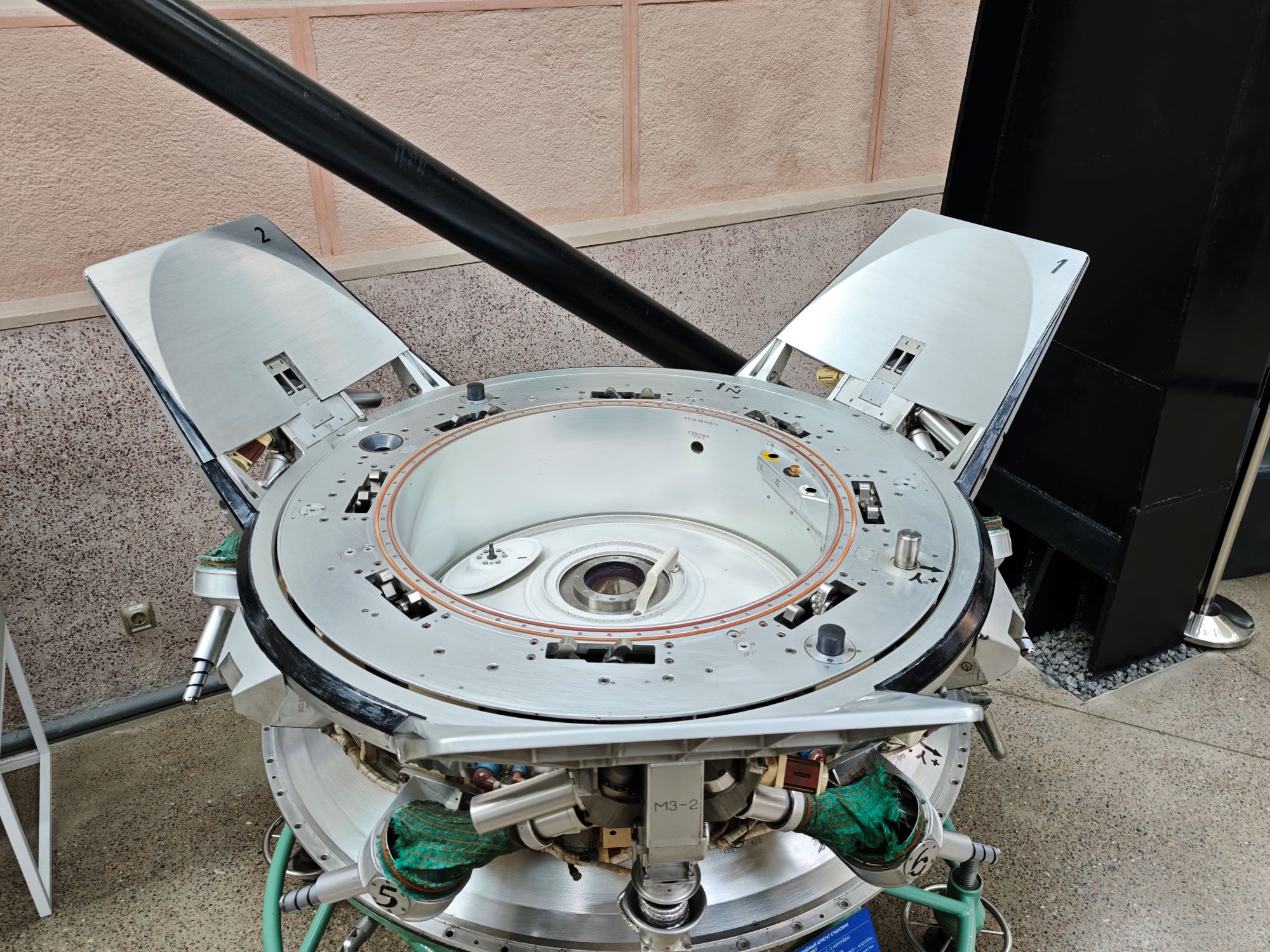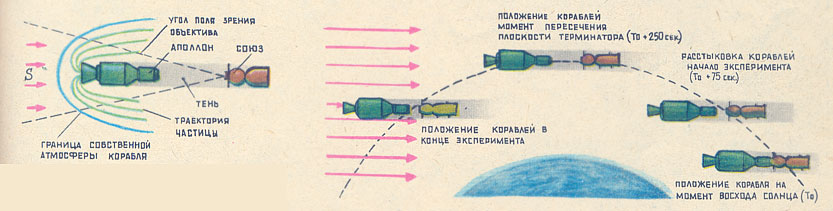50 лет рукопожатию в космосе: как программа «Союз-Аполлон» подарила надежду человечеству
*Шеврон
совместной миссии «Союз-Аполлон»*
В этом
году исполняется ровно 50 лет с момента первого международного космического
полета по программе «Союз-Аполлон». Став первым международным космическим
проектом такого масштаба, «Союз-Аполлон» также стал уникальным явлением периода
Холодной войны, когда по обе стороны Атлантики тревожное ожидание большой войны
сменилось надеждой на мирное сосуществование мировых держав. Отступил и страх
перед соперничеством в космосе, была заложена техническая и правовая база для
международного сотрудничества в этой важнейшей научной сфере.
Начало
1970-х годов отметилось в истории небольшим, но заметным потеплением в
отношениях между СССР и США, между двумя лагерями Холодной войны. В 1969 году
по большей части завершились приграничные бои на Корейском полуострове (их еще
иногда называют «Вторая Корейская война»), в 1973 году в рамках Парижских договоренностей
США обязались вскоре вывести войска из Вьетнама. В двусторонних отношениях
также наметилось потепление. В мае 1972 года генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и
президент США Ричард Никсон подписали в Москве договор ОСВ-1, ограничивавший
ввод в эксплуатацию новых ядерных боеголовок и пусковых установок для них.
*Московский
саммит 1972 года. Ричард М. Никсон и Леонид Ильич Брежнев в процессе подписания
договора ОСВ-1.*
Область космических
исследований также постепенно переставала быть источником крайнего напряжения.
В 1967 году был заключен «Договор о космосе», декларировавший неразмещение
оружия в космическом пространстве. В начале 1970-х годов экстренная линия
прямой правительственной связи Москва-Вашингтон, созданная в 1962, после
Карибского кризиса, стала еще и космической, обзаведясь
спутниками-ретрансляторами. Обмен метеорологическими данными со спутников
производился еще с 1964 года.
Вопрос организации совместного космического
полета также оказался на повестке на рубеже 1960-х-70-х годов. В 1970 прошли
первые обсуждения между группами американских и советских ученых. После
подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совмина СССР Алексеем
Косыгиным и президентом США Ричардом Никсоном «Соглашения о сотрудничестве в
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях» началась
уже активная фаза подготовки совместного пилотируемого полета. Изначально
рассматривалась идея организовать полет по принципу «Корабль-станция», однако
советские конструкторы оценили затраты и уровень технической сложности как
чрезмерные. В итоге было принято решение о стыковке на орбите двух кораблей –
советского «Союза» и американского «Аполлона». Миссия получила сокращенное
наименование «ЭПАС» — «Экспериментальный полет «Аполлон»—«Союз»» (англ. «ASTP»,
Apollo-Soyuz Test Project).
Состав миссии
*Команда
совместного полета «Союз-Аполлон». Верхний ряд, стоя слева направо: командиры
кораблей Томас Стаффорд и Алексей Леонов. Нижний ряд: Дональд Слэйтон, Вэнс
Бранд и Валерий Кубасов.*
К весне
1973 года уже были утверждены основные и дублирующие экипажи будущей миссии. С
американской стороны в экипаж вошли Томас Стаффорд (командир, 4-й полет), Вэнс
Бранд (пилот командного модуля, 1-й полет), Дональд Слейтон (пилот стыковочного
модуля, 1-й полет). С советской стороны были утверждены Алексей Леонов
(командир, 2-й полет) и Валерий Кубасов (бортинженер, 2-й полет).
И в
том, и в другом экипаже были неординарные личности. Томас Стаффорд, например,
участвовал в пилотируемом полете вокруг Луны в рамках экспедиции «Аполлон-10» в
мае 1969 года — «генеральной репетиции» высадки на Луну. Дональд Слэйтон —
также личность легендарная. Он входил в знаменитую «семерку» первых
американских астронавтов проекта «Меркурий» и был единственным из них, кому
из-за возникших проблем с сердцем не довелось совершить полет. Затем он перешел
на руководящую должность и в частности отвечал за подбор экипажей для высадки
на Луну.
С
другой стороны, Алексей Архипович Леонов, командир советского экипажа, имел
славу первого человека, еще в 1965 году вышедшего в открытый космос (и, что
интересно, кандидатура Леонова была одной из первых на рассмотрении для
советского пилотируемого полета к Луне). В свою очередь, Валерий Николаевич
Кубасов успел в 1969 году принять участие в первом в истории совместном полете
трех космических кораблей.
*Стаффорд
и Леонов внутри тренажера корабля «Союз» в Звездном городке, 1974*
Обязательным
условием для экипажей кораблей (как, кстати, и сегодня в рамках совместной
программы полетов на МКС) было владением языком страны-партнера –
соответственно русским или английским. Алексею Леонову и Валерию Кубасову
пришлось экстренно осваивать английский с нуля, да еще и параллельно с полетной
подготовкой. Леонов впоследствии вспоминал:
«Экзамены
были страшно жестокими. Учить язык мы начали, только готовясь к полету. В
комиссии были преподаватели Университета дружбы народов, МГУ, Института имени
Мориса Тореза, военного института. Нас просто буквально пинали, мы получили по
четверке».
Американские
астронавты также втянулись в процесс. Томас Стаффорд два года упорно учил
русский язык и даже некоторое время жил в Москве, ходил по улицам и старался
практиковаться. В итоге, как потом признавались космонавты, от тяжелого акцента
не удалось избавиться никому. Алексей Леонов даже по-доброму шутил над
Стаффордом уже на орбите:
«Кажется,
у нас тут говорят на трех языках: русском, английском и оклахомском».
(Стаффорд
был родом из Уэттерфорда, Оклахома – прим.). «Oklahomsky language» (Оклахомский
язык – англ.) стал своеобразным локальным мемом на все время совместного
космического полета.
*Томас
Стаффорд (слева) и Алексей Леонов на совместной пресс-конференции по случаю
40-летия полета «Союз-Аполлон» в Мемориальном музее космонавтики в Москве, 2015
год*
Системы
кораблей изначально нуждались в отработке. В декабре 1974 года космонавты
Филипченко и Рукавишников совершили полет на корабле «Союз-16», на котором
тестировались агрегат стыковки и солнечные батареи будущего корабля совместной
миссии.
15 июля
1975 года в 15:20 по Москве состоялся запуск с космодрома Байконур корабля
«Союз-19» с Леоновым и Кубасовым на борту. Спустя 5,5 часов с космодрома на
мысе Канаверал стартовал американский «Аполлон». В течение 15-16 июля корабли
постепенно выходили на курс сближения. 17 июля между экипажами состоялся первый
радиоконтакт. В 19:12 по московскому времени произошла стыковка, а через три
часа произошло знаменитое «рукопожатие в космосе» – Алексей Леонов и Томас
Стаффорд встретились в стыковочном модуле между кораблями.
*«Рукопожатие
в космосе» с американской стороны*
Как
потом рассказывал сам Алексей Леонов, в момент «космического рукопожатия»
сцепка двух кораблей проходила над Германией, над Эльбой, где в конце апреля
1945 года произошла встреча наступающих навстречу друг другу американских и
советских войск. Поначалу Леонов отправился навстречу американскому экипажу в
«Аполлон». За ним последовал и Валерий Кубасов, а на следующий день уже Томас
Стаффорд и Вэнс Брэнд перешли в «Союз» вместе с советскими коллегами.
*Союз и
«Аполлон» на околоземной орбите. Рисунок А.А. Леонова*
*Дональд
Слэйтон и Алексей Леонов внутри корабля «Союз»*
На
борту советского корабля Алексей Леонов в числе прочего предложил коллегам
выпить за встречу, продемонстрировав американским астронавтам две тубы с
этикетками «водка». Команда Стаффорда поначалу отказывалась, однако Леонов
пустил в ход непробиваемый аргумент:
«It’s
Russian tradition!»
(Это
русская традиция – англ.)
Как
выяснилось в следующую минуту, вместо водки внутри туб оказался обычный советский
космический борщ. Пока американцы пробовали суп из тубы, художник Леонов
занялся привычным для него делом – стал делать наброски портретов зарубежных
коллег прямо в невесомости. Впоследствии Леонов сделал несколько портретных
набросков каждого из членов экипажа совместного полета.
*Астронавты
Стаффорд и Слэйтон с космической водкой на борту «Союза». Но есть нюанс.*
*Алексей
Леонов с наброском портрета Томаса Стаффорда. Из архива НАСА.*
В
первый же день миссии был произведен обмен государственными символами. Алексей
Леонов передал экипажу «Аполлона» вымпел с советским гербом и государственный
флаг. Экипаж Стаффорда передал советским космонавтам флаг США и эмблему
программы «Аполлон». На следующий день, 18 июля, с борта «Аполлона» на «Союз»
был передан флаг Организации Объединенных наций. Также экипажи обменивались
памятными значками и медалями, которые сейчас большей частью находятся в
музеях.
*Вымпел
ООН, переданный американским экипажем, на экспозиции подарков Организации в
Нью-Йорке, США*
*Макет
сцепки кораблей «Союз» и «Аполлон» на экспозиции Центра «Космонавтика и
Авиация»*
При
взгляде на состыкованные корабли «Союз» и «Аполлон» бросается в глаза разница в
размерах и пропорциях. Советский «Союз» меньше в размерах и по массе (в районе
6,8 т.), однако два из трех его отсеков обитаемы – куполообразный спускаемый
аппарат и бытовой отсек спереди. Американский же корабль довольно массивен,
однако обитаемой частью является лишь конический спускаемый аппарат («командный
модуль») в передней части. «Бочкообразный» корпус корабля, по сути, является
большим приборно-агрегатным отсеком («сервисным модулем»). Объясняется это
отчасти изначальными целями двух кораблей: «Аполлон» при массе около 25т
представлял собой корабль для полета на Луну. Для околоземного полета большие
топливные баки не были полностью заполнены, а также, естественно, отсутствовал
лунный модуль.
*Общая
схема космического корабля «Аполлон». Источник фото: Spacefacts.de*
Отличались
и условия для экипажа: на американском корабле астронавты дышали практически
чистым кислородом. Давление на его борту составляло 5 фунтов (или 0,35 бара,
35% от нормального земного давления) в то время, как на «Союзе» давление
составляло 0,7 бара, в два раза больше. Сказалась инженерная специфика
«Аполлона» – меньшее давление внутри позволяло сделать стенки корабля тоньше и
таким образом облегчить и без того массивный корабль. Тем не менее, чистая
кислородная среда означала большую пожароопасность и диктовала свою специфику
адаптации к давлению внутри.
В этой
связи советским космонавтам пришлось вместо обычных полетных костюмов
облачиться в специальные полимерные из синтетического материала «Лола»,
синтезированного в Новосибирске специально для этой миссии – обычные советские
полетные костюмы были бы пожароопасными в насыщенной кислородной среде внутри
корабля «Аполлон».
Сам же
корабль «Аполлон» специально для совместного полета «прирос» дополнительным
отсеком – стыковочным модулем, фактически взявшим на себя функционал шлюзовой
камеры. Для перехода из одного корабля в другой в этом модуле менялась
атмосфера с обычной земной на разряженную кислородную и наоборот . На такой
переход космонавту требовалось до 30 минут.
*Фото
корабля «Аполлон» с борта корабля «Союз». Стыковочный модуль находится в передней
части корабля.*
Помимо
новаторской системы шлюзов, учитывающих разницу давлений, для программы
«Союз-Аполлон» также был создан принципиально новый стыковочный агрегат. С того
момента, как в 1969 году на орбите состыковались корабли «Союз-4» и «Союз-5»,
советские космические корабли и впоследствии станции использовали систему
«штырь-конус». Она предполагала наличие стыковочного штыря у активного корабля,
выполняющего стыковку, и конусовидного углубления у пассивного. В случае же со
стыковкой «Союз-Аполлон» активным и пассивным корабли могли быть попеременно. В
этом, несомненно, был и политический момент.
Результатом
стало создание АПАС – андрогинно-периферийного агрегата стыковки, идентичного
на каждом из кораблей. Агрегат состоял из трех замыкающих «лепестков», которые
входили в зацепление и обеспечивали герметичность стыка. Во время миссии было
осуществлено две стыковки кораблей, причем в первом случае активным был
«Аполлон», а во втором «Союз-19».
*АПАС
на экспозиции Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ*
В ходе
совместного полета был поставлен ряд экспериментов в области химии и биологии.
Так, в рамках эксперимента «зонообразующие грибки» изучались биологические
ритмы бактерии актиномицеты (они же «лучистые грибки») в условиях невесомости.
Экипажи
кораблей также обменялись семенами хвойных деревьев. Советские космонавты
передали американским астронавтам семена сосны кедровой сибирской и лиственницы
сибирской, а от американских астронавтов были получены семена ели сизой,
собранные с плюсовых деревьев в лесном питомнике Райнлэндер (штат Висконсин,
США). Впоследствии эти саженцы были пророщены в Главном ботаническом саду в
Москве.
*Космические
ели в Главном ботаническом саду в Москве, наши дни*
*Снимок корабля «Союз» с борта американского
«Аполлона» на фоне облачности внизу, на Земле*
Финальным
экспериментом за 46 часов и 36 минут полета двух состыкованных кораблей стала…
Еще одна стыковка.
Когда
экипажи попрощались друг с другом и вернулись на свои корабли, «Союз» и
«Аполлон» снова разошлись на два витка – примерно на три часа. В ходе
расстыковки корабли постепенно расходились друг от друга со скоростью 1м/с и
снова сходились по оси корабль-корабль-Солнце на дистанции 20-150 метров. Таким
образом осуществлялся первый в истории эксперимент с искусственным солнечным
затмением. Корабль «Аполлон» закрывал собой солнце, а «Союз» в это время
непрерывно вел фотосъемку самого корабля и солнечной короны вокруг него.
Изучались различные оптические эффекты в солнечной короне при съемке в разных
режимах. Всего было сделано 125 снимков с борта «Союза».
*«Искусственное
солнечное затмение» на схеме*
Вскоре
корабли соединились снова. На сей раз активной стороной выступил «Союз».
Повторная кратковременная стыковка прошла успешно – еще два витка корабли
летали вместе, после чего разошлись уже окончательно.
После
окончательной расстыковки Алексей Леонов сообщил по рации:
«Mission
accomplished!»
(«Миссия
выполнена!» - англ.)
С
«Аполлона» Стаффорд ответил ему по-русски:
«Хорошо!»
21 июля
1975 года спускаемый аппарат советского корабля приземлился в 54 километрах
северо-восточнее города Аркалык Туграйской области Казахстана. Экипаж
«Аполлона» продолжал полет до 25 числа, завершая запланированную программу
экспериментов.
*Спускаемый
аппарат корабля «Союз-19» экипажа Леонова и Кубасова в экспозиции музея РКК
«Энергия» в подмосковном Королеве*
Если
экипаж Леонова вернулся на Землю успешно, то Стаффорд и его команда столкнулись
с критической ситуацией – на «Аполлоне» случилась утечка топливного компонента
азотного тетраоксида, крайне токсичного и опасного для всего живого. Проблемой,
как и при трагедии корабля «Союз-11» четырьмя годами ранее, стал клапан,
отвечающий за выравнивание давления при снижении корабля – именно из него и
просочились пары. Вэнс Бранд даже потерял сознание примерно на минуту. Уже на
Земле приводнившийся «Аполлон» ожидала команда медиков. Команда Стаффорда около
недели проходила процедуры адаптации и восстановления – пары тетраоксида азота
вызвали у всех трех астронавтов раздражение слизистой легких. К счастью, эффект
был вполне обратим, и все трое быстро поправились.
*Приводнение
спускаемого аппарата «Аполлон»*
*Шарж
Алексея Леонова 1980-х годов. Реплика Стаффорда: «Ну и где они?»*
Международное
значение полета «Союз-Аполлон» сложно переоценить. Формально этот совместный
проект положил конец «космической гонке». Впереди у США и СССР еще были
драматические витки гонки вооружений в 1980-е годы, соперничество в создании
многоразовых космических ракетопланов и не только. Однако было положено начало
международному сотрудничеству в космосе. С 1978 года СССР начал организовывать
совместные полеты с космонавтами из дружественных социалистических стран на
свои космические станции. Чех Владимир Ремек стал представителем третьей нации
в космосе после советских и американских граждан. Позднее и представители
других стран побывали в космосе на советских (затем российских) и американских
кораблях.
*Отреставрированный
и открытый снова в 2018 году памятник программе «Союз-Аполлон» в подмосковном
Королеве, в квартале от здания ЦУПа, откуда шло управление полетом*
«Союз-Аполлон»
показал, что ведущие научные и космические державы могут и умеют объединяться,
чтобы достичь совместного результата. Это был очень своевременный вывод, потому
что в 1970-х годах присутствие человека в космосе начало подходить к той точке
усложнения и углубления, когда ресурсов только одной страны для дальнейших
исследований могло оказаться недостаточно. Мысль о том, что полет к иным
планетам должен стать именно совместным, международным, набирала популярность и
оттеняла тревогу от ожидания ядерного конфликта. И, хотя к концепции
Международной космической станции человечество пришло только в 1990-х годах уже
в совсем другом мире, а совместный полет на Марс и Луну все еще остается скорее
фантастическим сюжетом, ЭПАС подарил миру надежду на мирный космос для всех. В
этом его основное символическое значение.
17 июля